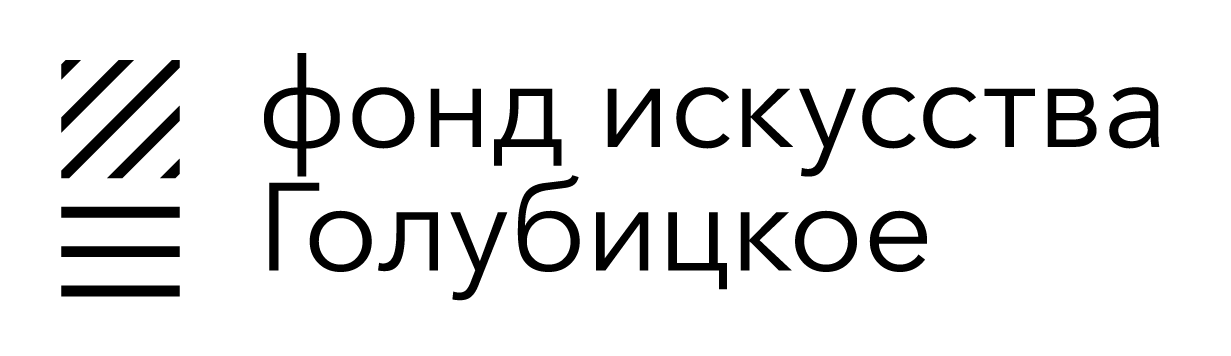Женя Чайка
Там ли дом, где его нет?
Результат, который можно и отложить

Визуализация жилого блока арт-резиденции в Фонде искусства «Голубицкое». Архитектурное бюро «Новое»
23 июля 2021 года колония художников на холме Матильды (Künstlerkolonie Mathildenhöhe) в Дармштадте была внесена в список культурного наследия UNESCO как объект, выражающий общемировые ценности. Собственно наследием был объявлен комплекс произведений, расположенный на холме, в который входят здания, сады и скульптуры, история их создания, а также постоянная выставка работ 23-х художников, бывших резидентами колонии в период с 1899 по 1914 год. За этот период своего существования под эгидой великого герцога Эрнста Людвига колония художников превратила просто живописный холм в место, где сосредоточились образцы архитектуры, дизайна и искусства стиля ар нуво, где осуществлялись смелые художественные эксперименты, вёлся поиск эстетического идеала современной повседневности.
Одним из первых, в 1901 году, по проекту архитектора-резидента Йозефа Марии Ольбриха был построен Дом Эрнста Людвига, также известный как Дом мастерских: именно там расположились профессионально продуманные с точки зрения объёма и света студии живописцев, скульпторов, дизайнеров, призванных в колонию строить художественную утопию Прекрасной эпохи. На роскошно декорированном фасаде этого здания написано: «Да покажет художник свой мир, которого никогда не было и которому не бывать»[1]. Именно в этом здании сегодняшний турист может ознакомиться с наследием «колонистов»: там расположен музей, где рассказывается о жизни колонии, о том, как создавались комплексы зданий, разбивались парки, и о том, какую роль это сыграло в жизни города.
Несмотря на то, что великий герцог, основавший колонию художников, не только любил искусство, но и видел в нем стратегический потенциал для богатого и растущего города Дармштадта, вряд ли он мог предположить, что благодаря его инвестициям в художественные процессы начала XX века, в XXI веке город попадёт на общемировую карту объектов универсальной значимости. Спустя сотню лет после своего создания художественный фантазм в югендстиле был признан «выдающимся образцом визионерства»[2]. Наиболее высоких оценок экспертов удостоилась цельность ансамбля, его даже назвали истинным гезамткунстверком (gesamtkunstwerk), произведением, в котором взаимосвязь элементов выстроена настолько органично, что при встрече с ним возникает ощущение полного погружения.
Одним из первых, в 1901 году, по проекту архитектора-резидента Йозефа Марии Ольбриха был построен Дом Эрнста Людвига, также известный как Дом мастерских: именно там расположились профессионально продуманные с точки зрения объёма и света студии живописцев, скульпторов, дизайнеров, призванных в колонию строить художественную утопию Прекрасной эпохи. На роскошно декорированном фасаде этого здания написано: «Да покажет художник свой мир, которого никогда не было и которому не бывать»[1]. Именно в этом здании сегодняшний турист может ознакомиться с наследием «колонистов»: там расположен музей, где рассказывается о жизни колонии, о том, как создавались комплексы зданий, разбивались парки, и о том, какую роль это сыграло в жизни города.
Несмотря на то, что великий герцог, основавший колонию художников, не только любил искусство, но и видел в нем стратегический потенциал для богатого и растущего города Дармштадта, вряд ли он мог предположить, что благодаря его инвестициям в художественные процессы начала XX века, в XXI веке город попадёт на общемировую карту объектов универсальной значимости. Спустя сотню лет после своего создания художественный фантазм в югендстиле был признан «выдающимся образцом визионерства»[2]. Наиболее высоких оценок экспертов удостоилась цельность ансамбля, его даже назвали истинным гезамткунстверком (gesamtkunstwerk), произведением, в котором взаимосвязь элементов выстроена настолько органично, что при встрече с ним возникает ощущение полного погружения.
[1] "Seine Welt zeige der Künstler, die niemals war noch jemals sein wird", https://www.mathildenhoehe-darmstadt.de/en/mathildenhoehe/artists-colony/.
[2] По словам Марии Бёмер, председателя комиссии ЮНЕСКО от Германии https://www.hessenschau.de/kultur/unesco-auszeichnung-darmstaedter-mathildenhoehe-ist-jetzt-offiziell-welterbe,mathildenhoehe-welterbe-102.html.
[2] По словам Марии Бёмер, председателя комиссии ЮНЕСКО от Германии https://www.hessenschau.de/kultur/unesco-auszeichnung-darmstaedter-mathildenhoehe-ist-jetzt-offiziell-welterbe,mathildenhoehe-welterbe-102.html.
Колонии, или Дом по образу и подобию

Внутреннее и эстетическое единство художественной колонии на холме Матильды обуславливается несколькими факторами. Она была создана фактически единовременно — за 15 лет. Её творцы были соратниками — адептами чистых форм и флоральных мотивов, любителями декора и ценителями четких структур, мастерами тонкой обработки классических материалов. Художников-резидентов было не так много: первоначальный состав включал семерых участников, а всего за годы работы колонии в ней жили и выставлялись 23 колониста. Художники жили и работали бок о бок, обсуждая идеи и стоящие за ними ценности, разделяя секреты мастерства и вырабатывая конструктивные и эстетические решения.
Строго очерченное место действия, ограниченное время, круг художников, работающих в одной ценностной рамке, яркий результат, который программируется изначально высоким стандартом и масштабной задачей, а становится видимым в долгосрочной перспективе — всё это признаки идеально сработанной художественной резиденции.
Именно с практики колоний художников, которые стали популярными в последней трети XIX века, начинают свою историю современные арт-резиденции. Само слово «колония» (лат. colonia) означает «поселение», хотя в его исторически закрепившемся употреблении значение понятия расширяется до «поселения, не наделенного политической независимостью». Поселения художников, напротив, отличались изрядной операционной автономностью, так что, возможно, слово «колония» в проторезиденциальном формате появляется ради ассоциации с другими важными характеристиками политических колоний: отдаленность от центра, построение рабочей структуры сообщества с нуля, основываясь на логике и ценностях центра, выбор территории для поселения, исходя из стандартов центра, а не из внутренних закономерностей жизни территории.
Один из этапов развития Таманского полуострова связан с периодом так называемой Великой греческой колонизации. В фундаментальном труде, изданном Научно-культурным центром «Фанагория», «Античное наследие Кубани» говорится: «Необходимо указать, что термины „колонизация“ и „колония“ несут на себе известный отпечаток модернизации. Сами эллины использовали для обозначения тех населенных пунктов, которые мы теперь называем колониями, термин „апойкия“, означающий „(дом) вдали от дома“. Соответственно переселенцев-колонистов именовали „апойками“. Апойкии сохраняли определенные связи с метрополией, обладая при этом полным суверенитетом»[3].
В вечной битве латинских и греческих слов, в данном случае позиции греческого кажутся более убедительными, поскольку само слово очень четко характеризует намерения поселенцев: создать дом таким, каким они его любят и ценят, таким, к какому они привыкли на родной земле. Не заботясь о том, чтобы быть очень точными с историческими понятиями, мы можем сказать, что «апойкия» — очень красивое слово, которое идеально подходит, чтобы выразить намерение обустроить всё по своему уставу в чужом монастыре. Так мы можем сказать, глядя со стороны, имея возможность разглядеть и особенности «устава», и наличие «монастыря».
Строго очерченное место действия, ограниченное время, круг художников, работающих в одной ценностной рамке, яркий результат, который программируется изначально высоким стандартом и масштабной задачей, а становится видимым в долгосрочной перспективе — всё это признаки идеально сработанной художественной резиденции.
Именно с практики колоний художников, которые стали популярными в последней трети XIX века, начинают свою историю современные арт-резиденции. Само слово «колония» (лат. colonia) означает «поселение», хотя в его исторически закрепившемся употреблении значение понятия расширяется до «поселения, не наделенного политической независимостью». Поселения художников, напротив, отличались изрядной операционной автономностью, так что, возможно, слово «колония» в проторезиденциальном формате появляется ради ассоциации с другими важными характеристиками политических колоний: отдаленность от центра, построение рабочей структуры сообщества с нуля, основываясь на логике и ценностях центра, выбор территории для поселения, исходя из стандартов центра, а не из внутренних закономерностей жизни территории.
Один из этапов развития Таманского полуострова связан с периодом так называемой Великой греческой колонизации. В фундаментальном труде, изданном Научно-культурным центром «Фанагория», «Античное наследие Кубани» говорится: «Необходимо указать, что термины „колонизация“ и „колония“ несут на себе известный отпечаток модернизации. Сами эллины использовали для обозначения тех населенных пунктов, которые мы теперь называем колониями, термин „апойкия“, означающий „(дом) вдали от дома“. Соответственно переселенцев-колонистов именовали „апойками“. Апойкии сохраняли определенные связи с метрополией, обладая при этом полным суверенитетом»[3].
В вечной битве латинских и греческих слов, в данном случае позиции греческого кажутся более убедительными, поскольку само слово очень четко характеризует намерения поселенцев: создать дом таким, каким они его любят и ценят, таким, к какому они привыкли на родной земле. Не заботясь о том, чтобы быть очень точными с историческими понятиями, мы можем сказать, что «апойкия» — очень красивое слово, которое идеально подходит, чтобы выразить намерение обустроить всё по своему уставу в чужом монастыре. Так мы можем сказать, глядя со стороны, имея возможность разглядеть и особенности «устава», и наличие «монастыря».
[3] Античное наследие Кубани. Том 1.
Идиллические дали

Долгое время считалось, что колонии художников дали начало моде на совместную работу художников в отдаленном уголке, вдали от шума расцветающих больших городов.
«В своей книге "Сельские колонии художников в Европе в 1870-1910" Нина Люббрен пишет о перемещении сцены художников из городов в сельские колонии. В период с 1830 по 1914 год около 3 000 художников массово удалялись на разные периоды времени, чтобы организовать художественные сообщества в сельских местностях, в основном во Франции, Центральной Германии и Нидерландах, но также в Венгрии и Балтийском регионе. Ностальгия по сельской местности как реакция на урбанизацию и индустриализацию составила идеологическую рамку для поселений художников в сельской местности.
Идея создания нового чувственного опыта природы была центральной для художественной повестки в проектах колоний. Опыт помещения себя в сельскую местность, в окружение видов, цветов, звуков, запахов и природных явлений привел художников к формированию моды на практику пленэра. Инновации вроде студий на колёсах и методы рисования пейзажей, которые предшествовали импрессионизму, развивались в колониях. […] Размер колоний варьировался от нескольких десятков до пятисот художников. Существовали как международные арт-поселения, так и национальные. Мобильность художников в структуре колоний носила разный характер: одни художники были постоянными резидентами одной колонии, некоторые работали в колонии ограниченный период времени, а иные, точно кочевники, путешествовали от колонии к колонии»[4].
Однако впоследствии такие художественные поселения во многом критиковались за преувеличение роли непосредственности в их повседневной деятельности. Например, широко известны случаи, когда картины, выдававшиеся за прямую и непринужденную фиксацию жизни крестьян, были, на самом деле, результатом многодневной постановочной работы. Вообще же, достаточно почитать некоторые воспоминания художников, чтобы понять, что идеальное место для работы – это вовсе не то место, которое хочется бесконечно воспроизводить.
Поиск идеальной натуры – это удел романтиков и лирических реалистов. Недаром Каспар Давид Фридрих совершал неоднократные паломничества на остров Рюген, где создал бесконечное множество изображений меловых скал, уходящих в Балтийское море, а Исаак Левитан долго перебирал берега российских рек и озёр в поисках пейзажа идеальной проникновенности. Образы, увиденные этими мастерами, живут сейчас в глазах многочисленных туристов, которые спешат в облюбованные художниками места, чтобы перенести в реальность эстетическое величие знаменитых холстов.
Безусловно, для объединения в колонии художники выбирали живописнейшие места, но вряд ли можно говорить о том, что привлекал их туда трепет перед величием природы. Во времена колоний фигура одинокого мастера, который своим гением способен разглядеть возвышенное и трагическое в природных явлениях, ушла на второй план. Кажется, что эстетические стремления сменились гедонистическими, важнейшую роль стали играть социальные факторы, такие как эскапизм и совместность опыта. Очень яркое и убедительное описание художественной колонии даёт Генри Миллер в своём автобиографическом романе «Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха»:
«Что касается художников, то любопытно, что мало кто из их братии задерживался здесь надолго. Может, им чего не хватало? Или же здесь слишком много... слишком много солнца, слишком много тумана, слишком много покоя и блаженной умиротворенности?
Почти каждая колония художников своим возникновением обязана зрелому мастеру, который чувствует необходимость порвать с окружающей его кликой и жаждет уединения. Место обычно выбирается идеальное, особенно для его первооткрывателя, чьи лучшие годы прошли по грязным углам да мансардам. Те же, кто претендует на звание художника, для кого место и его атмосфера превыше всего, умудряются превратить этот рай для уединения в шумную, развеселую колонию»[5].
Тем не менее для Миллера-акварелиста описание шума и веселья отходит на второй план, и холмистая местность Биг-Сура, расположенного на калифорнийском берегу Тихого океана, получает томное и поэтичное описание, подобного которому ни разу не удостоился любимый автором тринадцатый округ Парижа:
«В продолжение дня случаются два магических часа, о существовании которых я действительно знаю и жду их, в которых, можно сказать, купаюсь с тех пор, как живу здесь. Один – на утренней заре, другой – на вечерней. В оба этих часа бывает то, о чем мне нравится думать как об "истинном свете": один свет – холодный, другой – теплый, но оба создают атмосферу сверхреальности, или реальности за пределом реальности. Утром я смотрю на море, где по всей дали горизонта тянутся полосы всех цветов радуги, потом на горы, которые лежат вдоль берега, завороженные тем, как отраженный свет зари лижет и греет "спины блаженствующих носорогов". Если появляется корабль, то он вспыхивает и сверкает в косых лучах солнца, слепя глаза. Сразу невозможно сказать, корабль это или нет: это больше похоже на игру северного сияния»[6].
«В своей книге "Сельские колонии художников в Европе в 1870-1910" Нина Люббрен пишет о перемещении сцены художников из городов в сельские колонии. В период с 1830 по 1914 год около 3 000 художников массово удалялись на разные периоды времени, чтобы организовать художественные сообщества в сельских местностях, в основном во Франции, Центральной Германии и Нидерландах, но также в Венгрии и Балтийском регионе. Ностальгия по сельской местности как реакция на урбанизацию и индустриализацию составила идеологическую рамку для поселений художников в сельской местности.
Идея создания нового чувственного опыта природы была центральной для художественной повестки в проектах колоний. Опыт помещения себя в сельскую местность, в окружение видов, цветов, звуков, запахов и природных явлений привел художников к формированию моды на практику пленэра. Инновации вроде студий на колёсах и методы рисования пейзажей, которые предшествовали импрессионизму, развивались в колониях. […] Размер колоний варьировался от нескольких десятков до пятисот художников. Существовали как международные арт-поселения, так и национальные. Мобильность художников в структуре колоний носила разный характер: одни художники были постоянными резидентами одной колонии, некоторые работали в колонии ограниченный период времени, а иные, точно кочевники, путешествовали от колонии к колонии»[4].
Однако впоследствии такие художественные поселения во многом критиковались за преувеличение роли непосредственности в их повседневной деятельности. Например, широко известны случаи, когда картины, выдававшиеся за прямую и непринужденную фиксацию жизни крестьян, были, на самом деле, результатом многодневной постановочной работы. Вообще же, достаточно почитать некоторые воспоминания художников, чтобы понять, что идеальное место для работы – это вовсе не то место, которое хочется бесконечно воспроизводить.
Поиск идеальной натуры – это удел романтиков и лирических реалистов. Недаром Каспар Давид Фридрих совершал неоднократные паломничества на остров Рюген, где создал бесконечное множество изображений меловых скал, уходящих в Балтийское море, а Исаак Левитан долго перебирал берега российских рек и озёр в поисках пейзажа идеальной проникновенности. Образы, увиденные этими мастерами, живут сейчас в глазах многочисленных туристов, которые спешат в облюбованные художниками места, чтобы перенести в реальность эстетическое величие знаменитых холстов.
Безусловно, для объединения в колонии художники выбирали живописнейшие места, но вряд ли можно говорить о том, что привлекал их туда трепет перед величием природы. Во времена колоний фигура одинокого мастера, который своим гением способен разглядеть возвышенное и трагическое в природных явлениях, ушла на второй план. Кажется, что эстетические стремления сменились гедонистическими, важнейшую роль стали играть социальные факторы, такие как эскапизм и совместность опыта. Очень яркое и убедительное описание художественной колонии даёт Генри Миллер в своём автобиографическом романе «Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха»:
«Что касается художников, то любопытно, что мало кто из их братии задерживался здесь надолго. Может, им чего не хватало? Или же здесь слишком много... слишком много солнца, слишком много тумана, слишком много покоя и блаженной умиротворенности?
Почти каждая колония художников своим возникновением обязана зрелому мастеру, который чувствует необходимость порвать с окружающей его кликой и жаждет уединения. Место обычно выбирается идеальное, особенно для его первооткрывателя, чьи лучшие годы прошли по грязным углам да мансардам. Те же, кто претендует на звание художника, для кого место и его атмосфера превыше всего, умудряются превратить этот рай для уединения в шумную, развеселую колонию»[5].
Тем не менее для Миллера-акварелиста описание шума и веселья отходит на второй план, и холмистая местность Биг-Сура, расположенного на калифорнийском берегу Тихого океана, получает томное и поэтичное описание, подобного которому ни разу не удостоился любимый автором тринадцатый округ Парижа:
«В продолжение дня случаются два магических часа, о существовании которых я действительно знаю и жду их, в которых, можно сказать, купаюсь с тех пор, как живу здесь. Один – на утренней заре, другой – на вечерней. В оба этих часа бывает то, о чем мне нравится думать как об "истинном свете": один свет – холодный, другой – теплый, но оба создают атмосферу сверхреальности, или реальности за пределом реальности. Утром я смотрю на море, где по всей дали горизонта тянутся полосы всех цветов радуги, потом на горы, которые лежат вдоль берега, завороженные тем, как отраженный свет зари лижет и греет "спины блаженствующих носорогов". Если появляется корабль, то он вспыхивает и сверкает в косых лучах солнца, слепя глаза. Сразу невозможно сказать, корабль это или нет: это больше похоже на игру северного сияния»[6].
[4] Contemporary Artist residences, p. 16.
[5] Генри Миллер. Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха.
[6] Генри Миллер. Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха.
[5] Генри Миллер. Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха.
[6] Генри Миллер. Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха.
(Не)гостеприимное море

Идеальный свет приходит к окнам резиденции в поместье Голубицкое в закатный час. В летний сезон, примерно в половину восьмого воздух начинает наполняться теплом ярчайшего солнца, которое неспешно завершает свой дневной путь в водах Керченского пролива. В это время вода, искрящаяся вокруг резиденции, окончательно побеждает: лучи, просеянные через ненавязчивые облака, ловят свои отражения в соленых и сладких водах, которые, кажется, разлиты везде, где только хватает глаз: с юга на север блестит лиман, красуется искусственный пруд-бесконечность, уходит навстречу завтрашнему дню море. Тонущие в свете ряды виноградников кажутся не более правдоподобными, чем розовые фламинго, перемешивающие длинными клювами соль в южноамериканских приморских заводях.
Этот свет умеет обнимать предметы так, что, попавшие в кадр, они тут же наделяются волшебной силой сказочных персонажей. Этот свет своевольно перекрашивает сидящие на плотных кустах розы из красных в белые, а из белых – в красные, а тёплый, но хитрый ветер заставляет закрыть глаза. Прикрывая их, ты уже веришь, что жилет белого кролика только что промелькнул где-то между цветами, но открывая – не можешь сказать, куда именно он подевался. Магнетическое свойство этого света сообщает ему исключающую силу: сколько бы людей ни было вокруг, он заставляет остаться с ним наедине. Он вычеркивает из пейзажа всё, что отказывается ему соответствовать: с ним исчезает шум машин, с ним просто немыслимо представить, что в море появляется корабль. В мире этого идеального света есть только он и тот единственный, кто его видит, этот свет – не для тех, кто строит пристани, ждёт возращения путников или жаждет получить хорошие новости, прочитав цвет парусов.
Земля Тамани принимала поселенцев издавна и никогда не противилась гостям. Из них самые словоохотливые и склонные к документации своих следов – древние греки. Чтобы попасть на Тамань, они должны были преодолеть Черное море, которое в их языке пережило метаморфозу, из Понта Аксинского став Понтом Эвксинским[7]. Из «негостеприимного» в «гостеприимное» море превращалось постепенно, по мере освоения. Как только по ту сторону тёмных вод появились приветливые огни эллинских апойкий, из опасного и пугающего море превратилось в знакомое, почти домашнее.
Налицо привычные качели: с одной стороны расположился страх, с другой пристроилось знание. Однако знание это было не столько о том, что скрывают тёмные волны[8], сколько о том, что это море преодолимо, что у него есть достижимая другая сторона, что там живут такие же люди: они мало того что не ходят на головах, они разделяют те же принципы, те же конвенции, ту же веру.
Одним из принципов, который эллины перевозили на своих кораблях, был принцип гостеприимства. Неудивительно, что важнейшим источником, в котором он разъясняется, исследователи считают поэму о морских приключениях, полную встреч с «чужими» и «своими» – «Одиссею» Гомера. Вот, например, как рассуждает царь Алкиной (внук Посейдона), принимающий в своём доме обездоленного (но от этого не менее хитроумного) героя:
«Я хочу, чтобы в этом доме мы чествовали незнакомца […] возможно, это бог, который спустился к нам с неба ради нового уготованного для нас замысла: разве не видали мы сотни раз прежде богов, предстающих пред нашими взорами? Когда мы устраиваем жертвоприношения, они приходят на пир и спокойно садятся рядом, сидят на тех же скамьях; если они встречают одного из нас на пустынной дороге, они не прячутся: мы одной крови»[9].
Алкиной связывает появление странника с проявлением воли богов и, если следовать тексту поэмы, оказывается абсолютно прав, ведь читатель знает, что Афина не только надоумила Одиссея попросить у феакийцев приют, но не поленилась препроводить его в царский дворец. А вот как французский исследователь Даниель Пайо интерпретирует этот литературный фрагмент, анализируя практику гостеприимства в античной культуре:
«Это заявление интересно в той мере, в какой оно связывает прибытие незнакомца и появление бога. Это вовсе не значит, что незнакомца самого по себе обожествляют или путают с богом; и в своем ответе Одиссей старается со всей определенностью отделить свой приход от божественного, а себя самого – от фигуры бога. Но он [приход] усиливает измерение, которое для гомеровской проблематики гостеприимства является повсеместным: незнакомца принимают постольку, поскольку его прибытие – это решение богов, осуществляемое под их эгидой, эгидой, удостоверенной ритуалом, пиром, словом, которое заменяет соглашение. Отношения, если угодно, являются договорными ни разу не оказавшись двойственными: гостеприимство оказывается делом трёх сторон: принимающего, принимаемого и бога, который его отправляет, ручается за него, иногда также появляется сам. Пир, ритуал осуществляют xenía[10], контракт, институциализацию гостеприимства, в которой мы узнаём, таким образом, два элемента, которые различает Бенвенист: дар и договор».[11]
Любопытно, что и дар, и договор в этой логике оказываются обусловлены неким единым одновременно естественным и правовым полем, которое очерчивается божественным волеизъявлением, высказанным явно (поэтами? философами?) или данным подспудно (в игре света и тени?). Вообще говоря, эллины считали, что их глобальному желанию принимать гостей там, где их самих ещё нет, приведшему к масштабному освоению чужих земель, содействует Аполлон Лучезарный, предводитель муз. Среди которых, к слову, была и Клио – мастерица соткать историю под каждый новый рассказ.
Этот свет умеет обнимать предметы так, что, попавшие в кадр, они тут же наделяются волшебной силой сказочных персонажей. Этот свет своевольно перекрашивает сидящие на плотных кустах розы из красных в белые, а из белых – в красные, а тёплый, но хитрый ветер заставляет закрыть глаза. Прикрывая их, ты уже веришь, что жилет белого кролика только что промелькнул где-то между цветами, но открывая – не можешь сказать, куда именно он подевался. Магнетическое свойство этого света сообщает ему исключающую силу: сколько бы людей ни было вокруг, он заставляет остаться с ним наедине. Он вычеркивает из пейзажа всё, что отказывается ему соответствовать: с ним исчезает шум машин, с ним просто немыслимо представить, что в море появляется корабль. В мире этого идеального света есть только он и тот единственный, кто его видит, этот свет – не для тех, кто строит пристани, ждёт возращения путников или жаждет получить хорошие новости, прочитав цвет парусов.
Земля Тамани принимала поселенцев издавна и никогда не противилась гостям. Из них самые словоохотливые и склонные к документации своих следов – древние греки. Чтобы попасть на Тамань, они должны были преодолеть Черное море, которое в их языке пережило метаморфозу, из Понта Аксинского став Понтом Эвксинским[7]. Из «негостеприимного» в «гостеприимное» море превращалось постепенно, по мере освоения. Как только по ту сторону тёмных вод появились приветливые огни эллинских апойкий, из опасного и пугающего море превратилось в знакомое, почти домашнее.
Налицо привычные качели: с одной стороны расположился страх, с другой пристроилось знание. Однако знание это было не столько о том, что скрывают тёмные волны[8], сколько о том, что это море преодолимо, что у него есть достижимая другая сторона, что там живут такие же люди: они мало того что не ходят на головах, они разделяют те же принципы, те же конвенции, ту же веру.
Одним из принципов, который эллины перевозили на своих кораблях, был принцип гостеприимства. Неудивительно, что важнейшим источником, в котором он разъясняется, исследователи считают поэму о морских приключениях, полную встреч с «чужими» и «своими» – «Одиссею» Гомера. Вот, например, как рассуждает царь Алкиной (внук Посейдона), принимающий в своём доме обездоленного (но от этого не менее хитроумного) героя:
«Я хочу, чтобы в этом доме мы чествовали незнакомца […] возможно, это бог, который спустился к нам с неба ради нового уготованного для нас замысла: разве не видали мы сотни раз прежде богов, предстающих пред нашими взорами? Когда мы устраиваем жертвоприношения, они приходят на пир и спокойно садятся рядом, сидят на тех же скамьях; если они встречают одного из нас на пустынной дороге, они не прячутся: мы одной крови»[9].
Алкиной связывает появление странника с проявлением воли богов и, если следовать тексту поэмы, оказывается абсолютно прав, ведь читатель знает, что Афина не только надоумила Одиссея попросить у феакийцев приют, но не поленилась препроводить его в царский дворец. А вот как французский исследователь Даниель Пайо интерпретирует этот литературный фрагмент, анализируя практику гостеприимства в античной культуре:
«Это заявление интересно в той мере, в какой оно связывает прибытие незнакомца и появление бога. Это вовсе не значит, что незнакомца самого по себе обожествляют или путают с богом; и в своем ответе Одиссей старается со всей определенностью отделить свой приход от божественного, а себя самого – от фигуры бога. Но он [приход] усиливает измерение, которое для гомеровской проблематики гостеприимства является повсеместным: незнакомца принимают постольку, поскольку его прибытие – это решение богов, осуществляемое под их эгидой, эгидой, удостоверенной ритуалом, пиром, словом, которое заменяет соглашение. Отношения, если угодно, являются договорными ни разу не оказавшись двойственными: гостеприимство оказывается делом трёх сторон: принимающего, принимаемого и бога, который его отправляет, ручается за него, иногда также появляется сам. Пир, ритуал осуществляют xenía[10], контракт, институциализацию гостеприимства, в которой мы узнаём, таким образом, два элемента, которые различает Бенвенист: дар и договор».[11]
Любопытно, что и дар, и договор в этой логике оказываются обусловлены неким единым одновременно естественным и правовым полем, которое очерчивается божественным волеизъявлением, высказанным явно (поэтами? философами?) или данным подспудно (в игре света и тени?). Вообще говоря, эллины считали, что их глобальному желанию принимать гостей там, где их самих ещё нет, приведшему к масштабному освоению чужих земель, содействует Аполлон Лучезарный, предводитель муз. Среди которых, к слову, была и Клио – мастерица соткать историю под каждый новый рассказ.
[7] Понт Аксинский, др.-греч. Πόντος Ἄξενος, «Негостеприимное море», Понт Эвксинский, Πόντος Εὔξενος, «Гостеприимное море».
[8] Ученые до сих пор активно изучают разные глубины Черного моря, переводя их слой за слоем в статус живой воды; хотя ещё в конце ХХ века наука утверждала, что на глубине 200 метров в этом море начинается мёртвая зона, насыщенная сероводородом; как знать, не там ли эллины в своём страхе помещали вход в подземное царство Аида.
[9] В тексте приведен построчный перевод автора прозаического французского перевода, который исследователь использует в цитируемой статье. Привычный русскоязычному читателю перевод этого фрагмента В.А. Жуковским звучит так:
«Если же кто из бессмертных под видом его посетил нас,
То на уме их, конечно, есть замысел, нам неизвестный;
Ибо всегда нам открыто являются боги, когда мы,
Их призывая, богатые им гекатомбы приносим;
С нами они пировать без чинов за трапезу садятся;
Даже когда кто из них и один на пути с феакийским
Странником встретится – он не скрывается; боги считают
Всех нас родными…»
Гомер, Одиссея, Песнь VII.
[10] ξενία (xenía) – «гостеприимство», греч.
[11] Daniel Payot. À propos de l'hospitalité : institution et inconditionnalité. – Appareil, 20 | 2018.
[8] Ученые до сих пор активно изучают разные глубины Черного моря, переводя их слой за слоем в статус живой воды; хотя ещё в конце ХХ века наука утверждала, что на глубине 200 метров в этом море начинается мёртвая зона, насыщенная сероводородом; как знать, не там ли эллины в своём страхе помещали вход в подземное царство Аида.
[9] В тексте приведен построчный перевод автора прозаического французского перевода, который исследователь использует в цитируемой статье. Привычный русскоязычному читателю перевод этого фрагмента В.А. Жуковским звучит так:
«Если же кто из бессмертных под видом его посетил нас,
То на уме их, конечно, есть замысел, нам неизвестный;
Ибо всегда нам открыто являются боги, когда мы,
Их призывая, богатые им гекатомбы приносим;
С нами они пировать без чинов за трапезу садятся;
Даже когда кто из них и один на пути с феакийским
Странником встретится – он не скрывается; боги считают
Всех нас родными…»
Гомер, Одиссея, Песнь VII.
[10] ξενία (xenía) – «гостеприимство», греч.
[11] Daniel Payot. À propos de l'hospitalité : institution et inconditionnalité. – Appareil, 20 | 2018.
Трудно быть богом

Можно ли триединство, данное в греческом гостеприимстве, распространить на сегодняшние практики? Кто в ситуации современной арт-резиденции оказывается принимаемым, кто принимающим, а кто или что обладает конститутивной способностью, которая делает возможной и дар, и договор?
Вспомним ещё одного греческого царя – Амфитриона. Он правил Микенами и очень охотно принимал гостей. Благодаря популярности этого персонажа в литературе, его имя стало нарицательным и «амфитрионами» теперь принято называть радушных хозяев. Чтобы отказаться от сложного слова «хозяин» в деле гостеприимства, хотя бы в контексте арт-резиденций предложим каждому гостю в пару амфитриона.
Несколько скругляя углы, представим теперь всех участников псевдоантичной триады арт-резиденций.
Во-первых, гость (который, по умолчанию, может быть и гостьей). В случае междисциплинарной резиденции гость – это художник, куратор, хореограф, композитор, писатель, ученый, – любой практик широко понятой современной культуры. Как гость, он отличается многокомпонентным физическим присутствием: он приезжает сам и привозит с собой свой (профессиональный, художественный) процесс, свои коммуникационные потребности, свой язык. Кроме того, у него есть намерение выполнить договор и какое-то представление о готовности к дару.
Во-вторых, амфитрион. Поместим в эту функцию всё видимое и ощутимое, что есть в арт-резиденции: инфраструктуру проживания, режим работы, людей, которые действуют от имени резиденции, людей, с которыми гость не может не встретиться, оказавшись в арт-резиденции, ресурсы, которые амфитрион тратит на гостя без ущерба для себя. Демонстрируя готовность принимать гостя, амфитрион словно бы размещает свой очаг в реальном пространстве. Отстраиваясь от очага, он проводит межевание зон фактической доступности, выстраивает градиент тепла. Амфитрион всегда точно знает, чем он располагает, именно на этом знании строится его готовность к договору. Дар, напротив, не может основываться на четком знании, он не знает границ и отказывается от любых условий. Точнее говоря, работающие для него условия – не те, что гость и амфитрион могут обсуждать или изменять. Эти условия предпосланы третьей стороной.
Предположим, что в условиях работы резиденции Фонда искусства «Голубицкое» такой третьей стороной, обладающей конституирующей и непреодолимой силой, является место. Возможно, следуя именно олимпийской традиции, оно стремится к вездесущему и многоликому присутствию, отличается эмоциональной вовлеченностью, склонно уступать порывам и капризам, принимает предназначение и не спешит подчиняться внешней воле.
Вспомним ещё одного греческого царя – Амфитриона. Он правил Микенами и очень охотно принимал гостей. Благодаря популярности этого персонажа в литературе, его имя стало нарицательным и «амфитрионами» теперь принято называть радушных хозяев. Чтобы отказаться от сложного слова «хозяин» в деле гостеприимства, хотя бы в контексте арт-резиденций предложим каждому гостю в пару амфитриона.
Несколько скругляя углы, представим теперь всех участников псевдоантичной триады арт-резиденций.
Во-первых, гость (который, по умолчанию, может быть и гостьей). В случае междисциплинарной резиденции гость – это художник, куратор, хореограф, композитор, писатель, ученый, – любой практик широко понятой современной культуры. Как гость, он отличается многокомпонентным физическим присутствием: он приезжает сам и привозит с собой свой (профессиональный, художественный) процесс, свои коммуникационные потребности, свой язык. Кроме того, у него есть намерение выполнить договор и какое-то представление о готовности к дару.
Во-вторых, амфитрион. Поместим в эту функцию всё видимое и ощутимое, что есть в арт-резиденции: инфраструктуру проживания, режим работы, людей, которые действуют от имени резиденции, людей, с которыми гость не может не встретиться, оказавшись в арт-резиденции, ресурсы, которые амфитрион тратит на гостя без ущерба для себя. Демонстрируя готовность принимать гостя, амфитрион словно бы размещает свой очаг в реальном пространстве. Отстраиваясь от очага, он проводит межевание зон фактической доступности, выстраивает градиент тепла. Амфитрион всегда точно знает, чем он располагает, именно на этом знании строится его готовность к договору. Дар, напротив, не может основываться на четком знании, он не знает границ и отказывается от любых условий. Точнее говоря, работающие для него условия – не те, что гость и амфитрион могут обсуждать или изменять. Эти условия предпосланы третьей стороной.
Предположим, что в условиях работы резиденции Фонда искусства «Голубицкое» такой третьей стороной, обладающей конституирующей и непреодолимой силой, является место. Возможно, следуя именно олимпийской традиции, оно стремится к вездесущему и многоликому присутствию, отличается эмоциональной вовлеченностью, склонно уступать порывам и капризам, принимает предназначение и не спешит подчиняться внешней воле.
Давать то, чего не имеешь

Важнейшее условие для резидента Голубицкого – это работа с местным контекстом. Проект за проектом фонд словно бы собирает собственную базу данных о месте. Однако место оказывается не только предметом изучения или поводом для высказывания, но шире – общей рамкой для процесса. Поэтому одной из функций амфитриона становится фасилитация встречи с местом.
Чаще всего организованная встреча с местом опосредована существующими источниками, иначе говоря, она происходит через знакомство с описаниями места, которые есть не что иное, как собрания текстов, созданных в определённой традиции, ограниченных языком. Пока доминирующей (но, безусловно, не единственной!) является археологическая перспектива, а из всех доступных временных слоёв наибольшей популярностью пользуется Античность.
Невозможно претендовать на то, чтобы в двух словах очертить значимость концепта Античности, обозначим несколько опасных, или ограничивающих, моментов, из тех, что в нём скрываются:
Сказанное выше поднимает вопрос об уместности чрезмерно дистанцированного внешнего взгляда в качестве основы для художественного высказывания. Кажется, что было бы интересно искать пути более непосредственного взаимодействия с местом, возможно, через применение антропологических, феноменологических или даже журналистских (в смысле способов выстраивания прямой коммуникации) подходов. Кроме того, важным представляется очертить, кто такие местные жители сегодня, обладают ли они экспертным знанием о месте, если да, то в чем оно состоит? Многие из сегодняшних жителей Тамани переехали сюда совсем недавно, – чем они руководствуются в своей миграционной логике? Строят ли они дома вдали от дома или принимают правила игры, продиктованные местом? В какую парадигму мобильности вписываются завсегдатаи местных курортов? А случайные туристы?
Многих из тех, кто приезжает на Тамань жить, привлекает местный климат, пейзажи. Чрезвычайная живописность месторасположения фонда «Голубицкое» тоже очень привлекательна. Однако в одноместной резиденции такая живописность довольно опасно сочетается с изолированностью. Для резидента кажется удачным сочетание периодов концентрированной работы вдали от всех, даже от коллег, с моментами активной социальной включенности, которая обеспечивается иной – проектной, экскурсионной – деятельностью фонда.
Сам фонд искусств и арт-резиденция как его подразделение – международно прозрачная и безусловно эффективная модель работы. В то же время, будучи привнесенной из внешнего – и эмоционально очень далёкого – мира, она рискует превратиться в утопию, не найдя экономического якоря, необходимого для процветания апойкии. В текущей ситуации культурная инициатива не реализуется в чистом поле, но напрямую связывается с работающими и укорененными в месте процессами: виноградарством и виноделием.
Однако в экономической действительности виноделие – это не наследие античной культуры, а производство. Товарное и культурное производство существуют в разных парадигмах эффективности, и сохранение и развитие базового, экономически оправданного производства всегда будет приоритетом. Многолетний опыт сотрудничества с заводами в рамках программы Арт-резиденций Уральской биеннале позволил сделать вывод, что главная сложность в выстраивании продуктивных взаимоотношений – принципиально разное отношение ко времени. Для производства важны регулярность, четко отмеренная длительность каждого процесса, этапность, цикличность и, в конечном итоге, предсказуемость. Длительность этапов художественного производства мы можем предположить лишь условно, художественный процесс отличается временной эластичностью, которая со стороны может вызывать серьезное раздражение. Индустриальное производство (опустим некоторые исторически известные исключения) не способно на ускорение. Соблюдая ритм, оно уменьшает погрешность. Художественный процесс проявляет чудовищно высокую толерантность к риску, браку и даже к провалу: их ждут, но не предсказывают и редко предусматривают. Ведь ни один человек в здравом уме и твердой памяти не сможет заявить, что какая-то идея заболела пробковой болезнью, в то время как некоторые эксперты говорят о том, что каждая десятая бутылка вина с классической пробкой страдает этим недугом. Конечно, заранее никто не знает, какая именно.
Возможным рецептом для синхронизации могла бы стать адаптация импортированной модели либо выстраивание многочисленных мостиков между двумя процессами и двумя производствами через промежуточные среды. Такими могут быть маркетинг или туризм. Наиболее простыми механизмами здесь могут быть, например, создание концепта сувенирной линейки для магазина винодельни через дизайнерскую/арт-директорскую обработку «базы данных», которую собирают резиденты; интеграция с меню ресторана хотя бы на уровне пометки «рекомендовано художниками». Отдельно можно говорить о создании нарративных экскурсионных маршрутов по виноградникам, которые не были бы связаны с инсталляцией физических объектов, но основывались бы на «мифах и легендах», собранных/придуманных художниками. Противоположной альтернативой является создание условий для кратковременного размещения гостей через продюсирование арт-объектов, которые оснащены инфраструктурой проживания.
В то же самое время принципиально важно отделять проекты «буферной зоны» от собственно художественного процесса или процесса, происходящего в резиденции, поскольку эти проекты должны представлять из себя своего рода ассамбляж: сочетание нового и предсказуемого результата. Основным конвертируемым результатом работы буферной зоны является усложнение и расширение опыта зрителя, который абсолютно вписывается в существующие конвенции, пусть и превосходит ожидания.
Если же вернуться одновременно к художественному процессу и к важнейшей составляющей опыта гостеприимства, к дару, то нужно сказать, что результат художественного процесса лежит в поле дара. Именно поэтому он непредсказуем, он непредставим, возможно, его нет вовсе. Дар, возникающий между гостем и амфитрионом, взращённый по воле третьего – места. Этот дар – взаимность гостя и амфитриона, санкционированная местом. Возможно, этот дар есть не что иное, как любовь. Хотя бы потому, что так говорится:
«Любить – это давать то, чего не имеешь»[13].
Чаще всего организованная встреча с местом опосредована существующими источниками, иначе говоря, она происходит через знакомство с описаниями места, которые есть не что иное, как собрания текстов, созданных в определённой традиции, ограниченных языком. Пока доминирующей (но, безусловно, не единственной!) является археологическая перспектива, а из всех доступных временных слоёв наибольшей популярностью пользуется Античность.
Невозможно претендовать на то, чтобы в двух словах очертить значимость концепта Античности, обозначим несколько опасных, или ограничивающих, моментов, из тех, что в нём скрываются:
- Некритическое обращение к Античности повышает градус европоцентричности[12], что вряд ли может быть оправдано, учитывая этническое разнообразие территории как в историческом срезе, так и в наши дни.
- Античность была привезена сюда как готовое платье, как срезанные цветы, которым было суждено какое-то время стоять в вазе, но не расти и размножаться. Специалисты, которые изучают и описывают этот период, чаще всего приезжают из крупных научных центров, но не живут здесь, а их научной задачей, в основном, является выстроить общую историческую картинку, в которой данные с Тамани будут лишь элементами. Важно сказать, пусть это и будет значительным обобщением, что так неместные люди рассказывают чужую историю. Возможно ли здесь выстроить баланс между «быть частью большой культуры» и «это не имеет к нам отношения».
- Намерение российской центральной власти в XVIII веке обрести собственную Античность до сих пор сказывается на способе её существования: её «заказчик» был из центра, сама она и живёт в центре, место археологической находки оказывается транзитной зоной, артефакты «перегружаются на рейде»
- Тот факт, что самые значимые находки по сей день получают в качестве «порта приписки» столичные музеи, ярко демонстрирует имперскую логику действия больших музеев в России сегодня, которые не отказываются получать от регионов дань в виде культурных ценностей и артефактов, а возвращаются в них, не неся иного знания, кроме «знания» о собственном культурном превосходстве.
Сказанное выше поднимает вопрос об уместности чрезмерно дистанцированного внешнего взгляда в качестве основы для художественного высказывания. Кажется, что было бы интересно искать пути более непосредственного взаимодействия с местом, возможно, через применение антропологических, феноменологических или даже журналистских (в смысле способов выстраивания прямой коммуникации) подходов. Кроме того, важным представляется очертить, кто такие местные жители сегодня, обладают ли они экспертным знанием о месте, если да, то в чем оно состоит? Многие из сегодняшних жителей Тамани переехали сюда совсем недавно, – чем они руководствуются в своей миграционной логике? Строят ли они дома вдали от дома или принимают правила игры, продиктованные местом? В какую парадигму мобильности вписываются завсегдатаи местных курортов? А случайные туристы?
Многих из тех, кто приезжает на Тамань жить, привлекает местный климат, пейзажи. Чрезвычайная живописность месторасположения фонда «Голубицкое» тоже очень привлекательна. Однако в одноместной резиденции такая живописность довольно опасно сочетается с изолированностью. Для резидента кажется удачным сочетание периодов концентрированной работы вдали от всех, даже от коллег, с моментами активной социальной включенности, которая обеспечивается иной – проектной, экскурсионной – деятельностью фонда.
Сам фонд искусств и арт-резиденция как его подразделение – международно прозрачная и безусловно эффективная модель работы. В то же время, будучи привнесенной из внешнего – и эмоционально очень далёкого – мира, она рискует превратиться в утопию, не найдя экономического якоря, необходимого для процветания апойкии. В текущей ситуации культурная инициатива не реализуется в чистом поле, но напрямую связывается с работающими и укорененными в месте процессами: виноградарством и виноделием.
Однако в экономической действительности виноделие – это не наследие античной культуры, а производство. Товарное и культурное производство существуют в разных парадигмах эффективности, и сохранение и развитие базового, экономически оправданного производства всегда будет приоритетом. Многолетний опыт сотрудничества с заводами в рамках программы Арт-резиденций Уральской биеннале позволил сделать вывод, что главная сложность в выстраивании продуктивных взаимоотношений – принципиально разное отношение ко времени. Для производства важны регулярность, четко отмеренная длительность каждого процесса, этапность, цикличность и, в конечном итоге, предсказуемость. Длительность этапов художественного производства мы можем предположить лишь условно, художественный процесс отличается временной эластичностью, которая со стороны может вызывать серьезное раздражение. Индустриальное производство (опустим некоторые исторически известные исключения) не способно на ускорение. Соблюдая ритм, оно уменьшает погрешность. Художественный процесс проявляет чудовищно высокую толерантность к риску, браку и даже к провалу: их ждут, но не предсказывают и редко предусматривают. Ведь ни один человек в здравом уме и твердой памяти не сможет заявить, что какая-то идея заболела пробковой болезнью, в то время как некоторые эксперты говорят о том, что каждая десятая бутылка вина с классической пробкой страдает этим недугом. Конечно, заранее никто не знает, какая именно.
Возможным рецептом для синхронизации могла бы стать адаптация импортированной модели либо выстраивание многочисленных мостиков между двумя процессами и двумя производствами через промежуточные среды. Такими могут быть маркетинг или туризм. Наиболее простыми механизмами здесь могут быть, например, создание концепта сувенирной линейки для магазина винодельни через дизайнерскую/арт-директорскую обработку «базы данных», которую собирают резиденты; интеграция с меню ресторана хотя бы на уровне пометки «рекомендовано художниками». Отдельно можно говорить о создании нарративных экскурсионных маршрутов по виноградникам, которые не были бы связаны с инсталляцией физических объектов, но основывались бы на «мифах и легендах», собранных/придуманных художниками. Противоположной альтернативой является создание условий для кратковременного размещения гостей через продюсирование арт-объектов, которые оснащены инфраструктурой проживания.
В то же самое время принципиально важно отделять проекты «буферной зоны» от собственно художественного процесса или процесса, происходящего в резиденции, поскольку эти проекты должны представлять из себя своего рода ассамбляж: сочетание нового и предсказуемого результата. Основным конвертируемым результатом работы буферной зоны является усложнение и расширение опыта зрителя, который абсолютно вписывается в существующие конвенции, пусть и превосходит ожидания.
Если же вернуться одновременно к художественному процессу и к важнейшей составляющей опыта гостеприимства, к дару, то нужно сказать, что результат художественного процесса лежит в поле дара. Именно поэтому он непредсказуем, он непредставим, возможно, его нет вовсе. Дар, возникающий между гостем и амфитрионом, взращённый по воле третьего – места. Этот дар – взаимность гостя и амфитриона, санкционированная местом. Возможно, этот дар есть не что иное, как любовь. Хотя бы потому, что так говорится:
«Любить – это давать то, чего не имеешь»[13].
[12] Выражение «Античность – колыбель европейской культуры/цивилизации» давно превратилось в штамп.
[13] Жак Лакан в «Направлении лечения и принципах его действенности» так афористически цитирует высказывание из «Пира» Платона.
[13] Жак Лакан в «Направлении лечения и принципах его действенности» так афористически цитирует высказывание из «Пира» Платона.